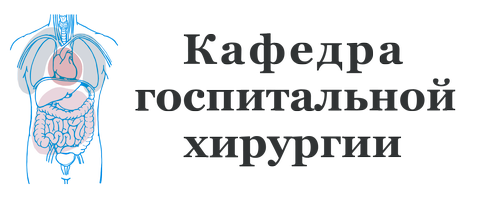
Три недели из жизни лепилы (Олег Мальский) - Глава 1
Глава I
4 мая 1987 года
- Эвентрация! - пробасил с порога ординаторской дядя Толя - крепыш лет шестидесяти пяти с малиновым цветом видимых кожных покровов, что связано с повышенным артериальным давлением, а не со злоупотреблением алкоголем.
Из-за характерной внешности дяди Толи его бас мог бы показаться постороннему вызывающим и даже нагловатым, однако на самом деле не содержал ни малейшего намека на вызов, по меньшей мере, сейчас. Конечно, неприятно, когда после плановой операции расходятся швы и кишки вываливаются наружу. И, тем не менее, такое случается. И у сопливых интернов, и у китов с сорокалетним стажем. А вообще дядя Толя хирург неплохой. Оперирует аккуратно, анатомично. Но очень долго. Я подавил назревающий вздох - глубокий и протяжный.
С утра 15-я "хирургия" выбила две операционные в разных корпусах. Для ускорения лечебного процесса пять плановых наркозов мы поделили с ординатором первого года. Я обезболил холецистэктомию и резекцию желудка, ему достались варикозные вены нижней конечности и две биопсии молочной железы. Наше кафедральное начальство не разрешает ординаторам первого года работать самостоятельно. То есть без присмотра со стороны ассистентов, отделенческих врачей или, на крайний (тот самый) случай, ординаторов второго года.
Начальству виднее - именно оно отвечает за подготовку молодых специалистов. Но, будучи катастрофически занято на лекциях и семинарах, предпочитает не заходить в операционные. Великодушно закрывает глаза на самодеятельность. Разумеется, если самодеятельность не приводит к печальному исходу. Лишь победителей не судят.
Так же оперативно мы осмотрели больных на завтра. Точнее, я осмотрел и уже дописывал истории болезни, а Павел Ананьевич - так зовут моего очередного ученика на три месяца - все еще осматривал. А ведь раньше меня начал. Дотошный!
Я уже навострил лыжи в сторону Курского вокзала. Как раз успевал на трехчасовую электричку до Балашихи. От конечной восемь остановок до "Объединения". Вдыхая гегемонический аромат комрадов с БЛМЗ и перехватывая демонические взгляды работниц швейной фабрики (или только кажется?).
А можно без лишних пересадок - до Щелковской и на 338-м.
Если влезу. Зато там перегара поменьше.
И вот все мои радужные планы рухнули. Спасибо, дядя Толя!
Я поставил точку и поднял со стола фонендоскоп.
- В какой палате?
- Олег Леонидович...,- ко мне наклонился Василий Иванович - По пути не зайдете в четвертую? У меня там больной после пробной лапаротомии затяжелел. С утра был ничего, а сейчас боли в сердце, давление снизилось. Я заказал ЭКГ, да что-то не идут.
- И не придут - у них с двух до трех пересменка.
- Так ты посмотришь? - он просительно взял меня за рукав халата.
Василий Иванович, в молодости спортсмен, гроза смазливых медсестер и любитель выпить, к "полтиннику" остепенился. Стал доцентом, вступил в партию, купил "москвич". Но хирургом так и не стал.
Когда Василий Иванович Афанасьев - кандидат медицинских наук, соавтор дюжины монографий и нескольких десятков статей - направлялся в сторону любой из семи функционирующих в больнице общехирургических операционных, за ним как бы невзначай увязывались заведующий 15-м отделением или его "правая рука" Миша Опошин. В случае необходимости готовые предложить свои услуги в качестве ассистентов.
В отличие от других Боткинских "корифеев", мирно пасущихся на зобах и липомах, Василий Иванович любил объемные вмешательства. Всегда начинал операцию весело, с шуточками и прибауточками. Час за часом мрачнея, он завершал "священнодейство" скромно и тихо. Так же скромно и тихо исчезал. Оставляя на анестезиологов переговоры с "реанимацией".
Чтобы подобное случалось как можно реже, и мелькали за широкими плечами Афанасьева необремененный званиями и квалификационными категориями Миша вкупе с признанным населением и коллегами Иваном Владимировичем Ревяковым. Иван Владимирович - тоже далеко не мальчик - сильно уставал от таких "ассистенций", расслабляясь в своем кабинете с Мишей и нашим шефом Юликом. Юлик любит расслабляться больше Ревякова, но до персонального кабинета так и не дорос.
Недодав Василию Ивановичу профессиональных талантов, природа щедро наделила его экстерьером: рост под два метра, статный, каштановые кудри с красивой проседью, бархатные глаза и такой же баритон. Ходил наш Ален Делон (заглазная кличка) неспешно, одевался изысканно, в разговоре редко опускал отчества или "тыкал".
Это меня и насторожило.
У двери в четвертую толпились посетители и ходячие больные.
В палате хлопотали Катя и Валя - все имеющиеся в наличии сестры.
Правильно сложенный мужчина лет сорока пяти полулежал-полусидел на кровати, хватая ртом воздух. Простыня сползла вниз. Неестественно синие, как у повешенного, лицо и шея выделялись на фоне полотняно-белого торса. Лоб покрывала испарина, вены на шее вздулись и бешено плясали с каждым ударом сердца. В складках измятой наволочки угадывались очертания костлявой руки, прикосновение которой изменяет всех нас до неузнаваемости. И все же я узнал его - еще один случай неоперабельного рака пищевода. Разрезали, посмотрели и зашили, Неделю, нет, шесть дней тому назад. А теперь тромбоэмболия - тромбы из вен ног или таза оторвались, по-видимому, при физической нагрузке, и попали в сердце или легкие. Или, возможно, видимо. Теперь исчерпывающие ответы на все вопросы может дать только патологоанатом. Похоже, этим все и закончится.
Катя налаживала капельницу. Валя закрепляла носовые форсунки для кислорода. Зачем?
- Давление? Пульс?
- Пятьдесят на ноль. Сто двадцать четыре.
- Когда это случилось?
- С полчаса уже.
- Почему сразу не позвали?
- Ален Делон сказал: "Сначала полечим, сделаем ЭКГ, потом позовем терапевта".
Все-таки побоялся отпустить на тот свет с последней прижизненной записью терапевта. Если прижизненной...
Сзади подошел Павел Ананьевич.
Э-эх! Делать нечего. Два шага вперед.
Больной перевел на меня взгляд своих больших серых глаз, но долго фиксировать его не мог.
В штативе стоял полиглюкин, мутный от суспензии гидрокортизона. В лотке на тумбочке валялись ампулы из-под строфантина и сорокапроцентной глюкозы.
- В реанимацию звонили?
- Звонили.
Наверняка звонили по собственной инициативе - реаниматологи не любят Афанасьева как крупного поставщика клиентов. Афанасьев отвечает реаниматологам взаимностью.
- И что?
-Спросили про диагноз. Придти отказались.
- С кем разговаривали?
- Со Шмитом.
- Позвали бы Куранова - он сегодня дежурит.
- Позвать? - Валя уже семенила к выходу.
Торопится покинуть поле заранее проигранной битвы. Что ж, с телефоном у нее и в самом деле получается лучше.
- Да нет! Скажи, что я везу больного. Пусть готовит место в шоковой. А мы будем ставить центральную вену. С иглой не доедет,- я повернулся к Кате, - Ты знаешь, где набор.
Набор, вопреки повторным приказам "главного" не производить подобных манипуляций за пределами операционной, хранился в процедурной. В готовности номер один. С дыхательной терапией дело обстояло хуже.
Я крикнул в полуприкрытую дверь:
- Валя, сначала позвони Ире, пусть возьмет ларингоскоп, трубу "девятку" и "амбушку". И живо сюда. Допамин в отделении есть?
- Нет. Может, Ира принесет?
Глупый вопрос в ответ на другой глупый вопрос: этот препарат, эффективно повышающий работоспособность сердца, бывает в больницах редко, поэтому анестезиологи предпочитают его заначивать - в моем случае на дне шкафчика в подвале кафедры анестезиологии.
- Там точно нет. А норадреналин?
- В процедурной.
- Тащи пару ампул и другую бутылку.
- Какую?
- Любую - физиологию, глюкозу.
Раздав ценные указания сестрам, я повернулся к Павлу Ананьевичу.
- Сейчас Анатолий Викторович берет эвентрацию из седьмой. Начни, я подойду. Справишься?
- В неотложке?
- Больше негде,- после двух вся оперативная активность перемещается в оперблок неотложной хирургии.
- Они в курсе?
- Не знаю. В любом случае не развернут,- никто не решился бы проделать такое с пациентом дяди Толи.
Катя уже расчистила место на тумбочке и, сдернув защитную простыню с эмалированного лотка вроде тех, в которые домохозяйки заливают холодец, попыталась опустить головной конец кровати.
- Достаточно,- каждый вдох давался измученным, переполненным кровью легким с таким трудом, что строго горизонтального положения, удобного для манипулятора, больной просто не вынес бы.
Я огляделся.
С соседней койки за происходящим с нездоровым интересом наблюдал щупленький старичок, которому после позавчерашней гемиколонэктомии прописали строгий постельный режим. Для полного комплекта нам не хватает только инфаркта миокарда.
- Повернитесь к стене!
Старичок нехотя подчинился.
Я расстегнул нижнюю пуговицу халата и перепрыгнул через железную раму, потеснив несимпатичную даму с косой, которая вплотную подобралась к изголовью.
Катя протянула мне пару спиртовых шариков. Обработав руки, я потер полусухой марлей шею больного над правой ключицей. Тут уж не до стерильности!
Неудобно вывернувшись назад, я подхватил с лотка кустарно заточенную короткую толстую иглу и шприц, в который Катя для экономии времени сама набрала физиологический раствор.
Присоединив иглу, я привстал на цыпочки и воткнул ее между ножками кивательной мышцы. Подтягивая поршень, медленно погрузился сантиметра на четыре. В шприц рванулась струя темной крови. Отложив шприц в сторону, я заткнул павильон иглы большим пальцем и выбрал с лотка полиэтиленовую леску нужного диаметра.
Прошла. Центральное венозное давление высокое - кровь так и хлещет. А я опять без перчаток. Ладно, не до мудреных импортных инфекций сейчас! Иголку - долой. По леске вкручиваем катетер... Отлично!
Распахнулась дверь и в палату прогрохотала трехколесная каталка. Новую забрал Павел Ананьевич. Шустрый, однако!
Я подклеил катетер лейкопластырем, выдернул леску и подключил новый флакон с разведенным сосудосуживающим препаратом - перед дорожкой было бы неплохо поднять давление.
Умопомрачительно крутанув бедрами, анестезистка Ирка - миниатюрная двадцатилетняя блондинка, за милой мордашкой и стройной фигуркой которой скрывалась душа расчетливой девственницы с серьезными намерениями,- пришвартовала каталку к кровати.
На "раз-два взяли" мы перекинули больного на каталку. Несчастный закатил глаза и захрипел. И этой секунды игра принимала иной смысл: успеем довести до реанимации, или удовольствуемся моргом.
Я ввел в дыхательное горло эндотрахеальную трубку. К трубке подсоединили "амбушку" - саморасправляющийся резиновый мешок на длинном шланге. Изящными сильными руками Ирка начала искусственное дыхание.
Пульс на сонных еще определялся, но не чаще тридцати двух ударов в минуту.
- Атропин!
Валя и Катя рванулись к выходу, сбивая друг друга с ног. Я понял, что сейчас растеряю последние кадры, и поправился:
- Промедление смерти подобно. Поехали!
Катя с Валей переглянулись, решая, кто возглавит нашу процессию. Бежать перед каталкой, распахивая двери и разыскивать пьяных лифтеров - миссия непростая и чрезвычайно ответственная. Ехать предстояло в лучшем случае минут десять. Обе сестры покинуть отделение не могли.
- Кать, давай, ты помоложе.
Валя отступила назад, опалив меня ненавидящим взглядом.
Язык мой - враг мой.
Левой рукой направляя каталку, а правой подняв над головой капельницу а-ля Статуя Свободы, я вырулил в коридор. И чуть не врезался в Василия Ивановича. Василий Иванович вздрогнул и уронил на грудь больному историю болезни. Мы перешли в галоп.
Отсутствующее четвертое колесо безбожно напоминало о себе, точнее, о своем отсутствии. Я отчаянно пытался хоть как-то контролировать дикую килевую качку, грозящую раньше времени приблизить больного к земле. И спиной чувствовал, как сзади невыразимо сексуально трусит Ирка, ритмично прижимая упругий мешок к не менее упругой груди.
В третьем и последнем лифте больной "остановился".
То есть тело его продолжало свое восхождение на третий этаж, где ждали виды видавшие реаниматологи и их амбалистые медбратья. Готовые перетащить тело в "шоковую" и еще минут десять пооживлять. А душа... Кто знает, может быть, она вернулась в 15-ю хирургию попрощаться с перепуганными женой и сыном. Протягивала к ним руки, удивляясь безмолвию своих слов. Вглядывалась в такие знакомые и уже посторонние лица. Потусторонние... Или, мучимая любопытством, поднялась этажом выше, в "неотложку", где Павел Ананьевич дрожащими руками ординатора первого года запихивал трубку в трахею другого несчастного.
Кто знает?
Осторожно, как взрывное устройство незнакомой конструкции, лифтер положил капельницу рядом с больным и щелкнул замком.
Недавно вспомогательные службы больницы получили пополнение из числа тунеядцев, спасающихся от указа Политбюро о нетрудовых доходах. Теперь в "приемнике" можно было встретить санитаров в фирменных дубленках и даже стрельнуть у них американскую сигаретку. А профессор кафедры хирургии опоздал на утреннюю конференцию, маневрируя на своей "Ладе" вокруг "Форда", который небрежно припарковал гардеробщик.
"Из новеньких будет",- подумал я и шагнул в коридор 18-о отделения реанимации, не прекращая непрямого массажа сердца.
Через десять минут, сдав труп с рук на руки, поругав Боткинские переходы, записав транспортный эпикриз и сдвинув (с молчаливого согласия Андрона) время смерти вперед, я взбежал в "неотложку".
Мне нравилось приходить сюда - со своими четырьмя спальными комнатами для дежурных оперсестер, анестезисток, хирургов, травматологов и нашего брата; душевой, раздевалкой и буфетом, "неотложка" представляла собой тот самый пресловутый "второй дом", где люди готовили нехитрую пищу (и ели ее, часто недоваренной или подгоревшей), сплетничали, ругались, читали (кто детектив, кто "Огонек", кто "Правду") и заводили несерьезные романы, внутренне напрягаясь каждый раз, когда лифт с лязганьем приближался к четвертому этажу. Чувствовалась круглосуточная готовность номер один - даже утром, когда санитары-совместители разбегались по своим институтам, врачи - по конференциям, "дневные" медсестры - по "плановым" операционным, а их сменщицы по третьему разу проверяли наличие лекарств и состояние инструментов, отделение не казалось пустым. В курилке кто-то забыл пачку "Примы" (вернется и очень скоро - после девяти будет уже поздно). В буфете дымится недоеденная каша (была очень, теперь - просто горячая). В смотровой у телефонов записка: "Георгий Александрович! Вчера вы были: сначала в операционной 21-го корпуса, потом - в гинекологии, потом ушли в реанимацию ГБО".
Но это - не главное. Главное, что они где-то рядом. Они помнят. Они помогут. И я спокоен за москвичей, которые вечно куда-то спешат, пьют водку, выясняют отношения и не подозревают, что эта подмерзшая лужица, "зилок" за тем поворотом или кухонный нож в руке соседа по коммуналке таят в себе смертельную опасность. И меня переполняет гордость - ведь завтра и мне заступать в дозор.
Я остановился у второго шлюза, чтобы натянуть бахилы и маску. Мимоходом заглянул к анестезисткам. Никого.
В "аппаратной" крутилась центрифуга, разделяя кровяные клетки и плазму чьей-то крови.
Павел Ананьевич расположился в "желтой" операционной - меньшей по размерам и более светлой. Деловито пыхтел электрический аппарат искусственного дыхания. В вену капал раствор Рингера. Дядя Толя с незнакомым мне интерном планомерно перебирали кишки.
В углу сидел мой ординатор первого года и некогда красивым, а теперь безнадежно испорченным шариковыми ручками почерком строчил протокол обезболивания.
Анестезиологического стажа до ординатура Павел Ананьевич не имел. Года четыре он работал эндокринологом. Или невропатологом - не помню. Досье на "молодняк" зачитываются в ходе сентябрьских смотрин и впоследствии хранятся у заведующего учебной частью.
Делая вид, что рассматриваю наркозную карту (а чего ее смотреть - Ирка давление и пульс рисует "по линеечке", то есть без головокружительных подъемов и умопомрачительных падений), я заглянул ему через плечо.
"На момент осмотра состояние средней тяжести. В легких дыхание жесткое, симметрично ослаблено в задненижних отделах. Артериальное давление 140 на 80 мм рт.ст. Пульс 96 в мин".
- Ну как? - поинтересовался Павел Ананьевич.
- Как и следовало ожидать. А у тебя как?
"Прием пищи и жидкости более 4 часов тому назад... Операция возможна под эндотрахеальным наркозом..."
- Все нормально.
Вижу.
- Олег Леонидович, посмотрите, пожалуйста, из них можно собрать хотя бы один работающий? - Ирка разложила на подоконнике штук пять ларингоскопов - приборов для введения дыхательных трубок.
Хлопнула дверь в соседнюю операционную. Кто-то прошел в аппаратную и выключил центрифугу.
- Сейчас посмотрим. Что в голубой?
- Ножевое ранение брюшной полости.
- Кто взял?
- Парашка и Вероника.
- Хирурги?
- Даже не заходила. Одновременно с этим привезли. Не получив ответа на поставленный вопрос, я направился в "голубую". Скорее для порядка.
В коридоре меня чуть не сбила с ног Вероника - анестезистка из ЛОР-корпуса. Где ей самое место - работа в "ЛОРе" по сравнению с другими отделениями хирургического профиля считается лажевой и позволяет Веронике по шесть-семь раз на дню гонять чаи, посвящая всех желающих в хитросплетения своей семейной жизни. В "неотложке" Вероника начинала суетиться, ронять предметы, пропарывала больным вены и, неловко открывая ампулы, порою резала пальцы в кровь. Но отказаться от совместительства не могла - была она небольшого роста, среднего возраста, полноватая, неприметная, а поэтому без малейшего шанса заиметь богатого спонсора.
При столкновении Вероника чуть не выронила из рук отцентрифугированную пробирку (подняв-таки осадок).
- Ты бы сразу отливала плазму в другую емкость!
Вероника посмотрела на меня взглядом загнанной лошади и пробормотала что-то невнятное.
Наркозный столик отдаленно напоминал городскую свалку: вперемешку шприцы, использованные и полные ампулы, флаконы. На истории болезни оттаивали пакеты с эритроцитарной массой. На полу валялся чистый бланк наркозной карты. То есть не совсем чистый - незаполненный.
Опошин перехватил поудобнее ранорасширитель и посушил в глубине брюшной полости. Справа от него в тазу высилась гора окровавленной марли. Ревяков запустил руку в живот чуть не по локоть и ощупывал что-то в верхнем этаже. На лбу у него выступили бисеринки пота.
- Тут большая кровопотеря, я просила дать кого-нибудь. Юлий Григорьевич обещал, но... - прошелестело из дальнего угла операционной.
В больнице знали, что на наркозах Прасковьи Денисовны драматизм ситуации прямо пропорционален расстоянию между больным и анестезиологом.
Не оборачиваясь, я прошел к столу. На первый взгляд все выглядело вполне благопристойно. Не менее благопристойно, чем в "желтой" - в головах чухал аппарат, руки пострадавшего были пристегнуты к специальным подставкам (что на заре моей медицинской деятельности наводило меня на мысли о Голгофе). К обоим локтевым сгибам больного со штативов сбегали пластиковые трубочки, лениво, капля за каплей отдающие бледному усатому организму физраствор и полиглюкин - все, на что организм мог рассчитывать, пока не совместят донорскую кровь. Действуя наверняка, Вероника выбрала самые тонкие иглы, которые имелись в ее арсенале.
- Давление?
- Вот поставили вторую вену,- как-то неубедительно промямлила Парашка.
Тридцать лет назад Прасковья Денисовна Савлова одной из первых в больнице шагнула от традиционной эфирной маски к революционному тогда эндотрахеальному наркозу, попутно обучив интубации не один десяток молодых интернов и ординаторов. Многие из которых далеко продвинули советскую, а впоследствии американскую, израильскую и прочие анестезиологические школы. Сама же учительница продолжала добросовестно и незаметно трудиться в не очень интенсивной и не шибко требовательной гинекологии. Обезболивая аборты, ампутации матки с трубами и без, путаясь в дозировках новых лекарств и больше всего на свете страшась инвазивных манипуляций.
В конце концов ее, маленькую согбенную старушку, вытеснили способные энергичные кадры, которые, как известно, решают все. И куда - в "неотложку"! Правда, от ночных бдений пенсионерку Савлову избавили. С девяти до трех она терпеливо ждала дежурную бригаду.
- Прасковья Денисовна, кто вас меняет? - я отыскал Парашку взглядом, одновременно нащупывая пульс. Только на сонных артериях, да и там нитевидный,-- Полина Стефановна и Юрий Моисеевич.
Наша доблестная нейроанестезиологическая служба отличается пунктуальностью - раньше трех не появляются. Ну как не попить чайку после пяти-шестичасового наркоза (пусть единственного, что с того)?
- Тогда идите. Все равно у меня эвентрация на соседнем столе.
Без лишних уговоров Парашка откланялась.
Из приглушенных комментариев хирургов я уяснил, что нож вошел в живот чуть ниже грудины, ранив желудок и диафрагму. Желудок зашили, в животе крови было немного, так что причиной шока являлось, скорее всего, повреждение сердца или крупного сосуда. Назревала торакотомия.
- Ника, зови Иру!
Когда Вероника судорожно заметалась между дверных створок, я уже разорил подключичный набор, довершив разгром наркозного столика. С ошеломляющей скоростью раздавая инструменты, операционная сестра Наташа умудрилась кинуть мне перчатки и йодный шарик.
За спиной Ирка вскрыла целлофановый пакетик с катетером.
- Какая у него группа?
- Вторая, плюс.
- Покажи.
Вероника поднесла мне эмалированную тарелочку, где в шести углублениях колыхались капли разноцветных стандартных сывороток, смешанных с кровью больного. Агглютинации - "песка", свидетельствующего о несовместимости красных кровяных клеток донора и плазмы реципиента - в ячейке, над которой красным стеклографом было коряво выведено "А (II)", не было*. Зато она присутствовала в ячейке с антирезус-сывороткой. Все сходится.
*В настоящее время используется другой метод определения группы крови.
- Сколько заказывали?
- Литр.
- Еще столько же. И плазмы - сколько дадут.
Вероника ретировалась. Хирурги констатировали остановку кровообращения. Сопя и захлебываясь, старенький насос накачал полную трехлитровую банку - времени собирать, фильтровать и возвращать кровь больному не было. Наташа звала санитарку, чтобы заменить банку, кровь из надрезанной нисходящей аорты заполняла рану, Миша пытался пережать сосуд выше по течению, а Иван Владимирович взял в руки сердце и начал прямой массаж.
- Троечку*! Дефибриллятор!
Выполнить эти распоряжения, имея одну пару рук, невозможно, поэтому Ирка подтолкнула ко мне наркозный столик, непонятно когда приведенный ею в божеский вид, и унеслась в "желтую" за единственным в блоке дефибриллятором. Я дернул на себя ящик и, матерясь вполголоса, выбрал "троечку" - адреналин, атропин, хлористый кальций. Зажимом раздавил головки ампул и, проливая, насосал содержимое в два шприца. Вспрыснул лекарства через резиновую муфту капельницы и снова поменял флакон. Пятая пол-литра, черт, как медленно идет!
Павел Ананьевич вместе с Иркой вкатили в операционную громоздкий железный ящик с зеленым экраном и ничтожным (по отношению к массе) количеством кнопок. Этот прибор польского производства, один из двенадцати закупленных больницей и последний функционирующий по настоящее время, семь лет назад стоил едва ли не дороже новой "шестерки" и уже тогда превосходил аналогичные американские образцы только размерами.
Но сердце уже заработало, прыгая в руках Ревякова, как бешеная лягушка. Павел Ананьевич откатил дефибриллятор с прохода в прогалину между Ревяковым и коагулятором. Предложил помочь.
- Не оставляй больного!
Это вместо "спасибо". Что делать, на сегодня трупов достаточно.
Ирка катетеризировала вену на правой руке и поставила параллельную капельницу. Ника принесла эритромассу. Я передал драгоценные пакеты Ирке, предварительно убедившись в том что, во-первых, кровь нужной группы (судя по этикеткам), во-вторых, холодная, как айсберг в океане, и, в-третьих, что нас надули на двести пятьдесят миллилитров. Гады, жопу от стула не оторвут, чтобы кровь принести, сам бегай, да еще обсчитывают!
Проблему с пропускной способностью центрального венозного катетера я решил радикально - через длинную толстую иголку нагнетал во флаконы для инфузий воздух. Пол-литра "улетало" за полминуты, впервые за весь наркоз стало определяться артериальное давление. Этот фокус не пройдет с эритромассой - она густая, периферический катетер тоньше, а пакет не выдержит высокого внутреннего давления.
- Ир, эти два пакета перелей в полиглюкиновую бутылку, разбавь "Рингером",- и уже шепотом - Тарелки сложи в раковину.
Кровь я не совмещал, как положено, а переливал вслепую, по этикеткам, так что сухие чистые тарелки представляли собой нежелательную улику.
Ловко орудуя ножницами, Ирка аккуратно отогнула алюминиевые кантики на винтовой пробке (у меня так не получается) и, срезав уголки с пакетов, в очередной раз потоптала нормативные акты.
Но ведь, черт возьми, у нас нет лишних рук и лишних минут! Хотя, пардон, Никины руки были здесь явно лишними. И глаза - недавно кто-то из своих настучал профессорше о моем весьма вольном толковании приказов и директив, часто невыполнимых на практике или просто вредных.
Вероника была отправлена в реанимацию. Надо ввести в курс дела дежурного врача и договориться о месте рядом с аппаратом искусственной вентиляции легких. А если места нет, тогда им придется срочно переводить кого-нибудь из оклемавшихся. Это значит - писать переводной эпикриз, звонить в профильное отделение - возни минимум на полчаса. Конечно, можно было бы поговорить с Андроном по телефону, но я не хотел покидать операционную даже на минуту. Тем более, что взять за ручку и привести всегда надежнее.
- Цианоз, понос, одышка..,- за что люблю Мишу, так это за неистребимое чувство юмора.
Ревяков опять массировал сердце.
- ...пульса нет, больному крышка,- я закончил жизнерадостную шутку и повторно ввел "троечку".
- Дырку-то зашили?
- Зашиваем.
С двумя "венами", заливая в больного около литра крови и кровезаменителей в минуту, мы не успевали за кровопотерей.
- Сюда норадреналин,- я ткнул в банку с физраствором - В периферию соду. Шприцами. Преднизолон - весь, какой остался.
Пришло время артериосекции. Я терпеть не могу эту процедуру, считая ее опасной и бесполезной: если больной выживет, то может потерять кисть. А если умрет, то все равно умрет. Но проблемы детерминизма не входят в мою компетенцию, а наша профессорша, когда видит смерть на столе от кровопотери, и не к чему придраться, обычно спрашивает: "А почему не прибегли к внутриартериальному нагнетанию?"
Что на это ответишь? Что весь мир давно от него убежал, а Нелли Алиевна, которая лет эдак двадцать не заходила в операционную, рекомендует эти припарки по инерции? Что в тонюсенький внутриартериальный катетер прокачаешь в десять раз меньше, чем в толстый венозный, а рефлекторные воздействия на сердце через стенку сосуда - химера, пригрезившаяся отцу советской реаниматологии В.А. Неговскому на полях Великой Отечественной, по-видимому, со страха?
- Фибриллирует,- сердце беспомощно трепетало в руках Ивана Владимировича.
В дверях недовольно кривил губы дежурный реаниматолог Теобальт Адольфович Шмит. Вероника шепотом сообщила, что Андрон убежал на вызов в "неврологию".
Я подтолкнул Теобальту Адольфовичу набор для артериосекции, в котором отсутствовал только шовный материал - сам попросит у операционной сестры - и рванулся к дефибриллятору.
Шмит пришел в больницу задолго до меня и десять лет поступал в институт, отчислялся, восстанавливался, брал академические отпуска и справки для военкомата, на хлеб насущный зарабатывая в Выездном центре реанимации - сначала медбратом, потом фельдшером. Зимою позапрошлого года он, наконец, распрощался со своим вечерним отделением и определился в интернатуру на нашей кафедре.
Непростой жизненный путь, лютеранское воспитание и т.п. превратили Теобальта Адольфовича в добросовестного, хотя, по правде сказать, бесталанного труженика белого халата. Увы, это было не последнее его превращение.
Четыре месяца назад он благополучно состоялся как доктор, но не попал в обетованный ВЦР. Была в том повинна зам по хирургии А.Г. Шишина, которая сама давно запуталась в своих кадровых интригах, или заведующая ВЦР Фригерер блюла чистоту рядов (а может быть, крови) своего отделения, но Шмит распределился в куда менее спокойную и куда более грязную 18-ю "реанимацию". И стал настоящей пародией на "типичного" реаниматолога - немножко обиженным на весь мир, чванливым и заносчивым по отношению к братьям-анестезиологам за их отдаленность от лечебного процесса ("ваше дело не рожать - трубку вынул и бежать"). От старых времен осталась болезненная педантичность и безупречно чистая форма ("еще не родился тот алкаш, что меня заблюет"). Столь нетипичные для типичного реаниматолога.
- Помоги с артерией, зашиваемся.
Теобальт Адольфович поморщился под маской, но промолчал.
- Стукнем,- это я Ревякову.
При дефибрилляции через электроды пропускают электрический разряд, заставляя беспомощно дрожащую сердечную мышцу биться ровно. Как кнутом по хребтине измученной лошаденки. Электроды можно наложить на грудную клетку, а если она вскрыта (как сейчас) - непосредственно на сердце. Но от двадцати или тридцати автоклавирований ложки для внутренней дефибрилляции испортились и отправились на свалку, а точнее, в подвал одного из корпусов, где в пыли и мокрети догнивала аппаратура, определенная на списание. Остались только "блины" для наружной дефибрилляции, которые не подвергались автоклавированию (и вообще какой-либо дезинфекции).
Я отодвинул Ревякова и прижал к коже под левым соском и чуть правее верхушки грудины два металлических кругляшка с пластиковыми ручками. Спиральные провода, соединяющие их с прибором, натянулись до предела.
Под правым пальцем загорелась красная кнопка, сигнализирующая о том, что конденсатор заряжен.
- От стола,- любой, кто прикоснулся бы в этот момент к больному, получил бы электрошок с непрогнозируемым исходом.
Я придавил кнопку.
От двухсот килоджоулей больной слегка подпрыгнул - все, чего я добился. И заказал триста. Ирка прибавила. Экзекуция повторилась. Больной подпрыгнул еще выше. Несколько зажимов оказались на полу.
Отпустив четыреста, я почувствовал себя Народным шаманом Советского Союза - больной подскочил сантиметров на десять и "ожил".
Я окинул прощальным взглядом бешено колотившееся сердце и, мысленно обругав Парашку, которая никогда не подключает электрокардиоскоп* (не может запомнить, куда клеить электроды), бросил окровавленные пластины на крышку дефибриллятора. Все равно Веронике убираться в обоих операционных.
*Самый примитивный следящий прибор.
Давление скакнуло до ста шестидесяти на сто. Теперь можно смело подключать лидокаин - стабилизатор сердечной мышцы, предотвращающий повторение фибрилляции желудочков.
Я пилил ампулы, делая вид, что не замечаю, как Теобальт Адольфович вместо лучевой артерии (целее будет) выделил и надсек сопровождающую ее вену. Из надреза еле сочилась темная кровь. Это ничуть не смутило доктора - ведь классической алой струи у трупов не бывает.
Цифры артериального давления огласил, когда Шмит зашивал кожу. Под маской у Теобальта Адольфовича сконтурировалась презрительная ухмылка. Он снисходительно пощупал пульс, затем стал лихорадочно проверять проходимость катетера - шприцом, леской. Используя моральное преимущество, я заговорил о местах в "реанимации" - в отличие от Андрона его напарник мог запросто притормозить больного в операционной до нормализации скорости мочеотделения (Парашка даже не соизволила катетеризировать мочевой пузырь) или показателей красной крови (а это уже из области фантастики).
Теобальт Адольфович с готовностью согласился взять больного на неиспользованное мною, а точнее, Афанасьевским пациентом, место. Даже вызвался лично подготовить койку. Не знаю, что он имел под этим в виду. Наверное, лично застелит. Или взобьет подушку.
Операцию закончили без приключений. Хирурги поставили дренажи в плевральную полость и зашили рану. Я, стоя на коленях и деликатно отодвигая носом Мишину ягодицу, пролез под простынями и выпустил полтора литра прозрачной мочи, чему был неописуемо рад.
Стряхнув перчатки неестественно большого размера (меньших в операционной не было - и здесь гигантомания) я проверил наркозную карту. В пределах разумного она соответствовала действительности. Не успел я дописать протокол обезболивания, как историю, словно эстафетную палочку, подхватили хирурги. И чудесным образом растворились, предоставив нам самим перекладывать больного на каталку.
Перекладывание - самая вредная из имеющихся в нашей работе вредностей. Трудно найти сорокалетнего анестезиолога со здоровой поясницей.
Ирка перекрыла капельницы и разложила на груди у больного флаконы. Отсоединила эндотрахеальную трубку от вентилятора. Я, подсунув руки под спину и бедра (не Иркины, увы), изобразил полужим-полурывок в горизонтальной плоскости.
Через несколько секунд мы уже неслись по коридору. Дверь в комнату отдыха анестезиологов, которую нам приходилось делить с дежурными травматологами, была приоткрыта. В узкую щелку промелькнули американские носки Юрия Моисеевича - подарок сына эмигранта. Сам Юрий Моисеевич дремал, укрывшись "Литературной газетой". Или "Собеседником" - на такой скорости я не успел рассмотреть.
Вероника сторожила лифт, счастливая выполнить последнее мое распоряжение на сегодня. Снизу нетерпеливо звонили - видимо, господин, замаскировавшийся под лифтера, сначала отлучился по каким-то своим (темным) делам, а потом обнаружил пропажу рабочего места.
Теобальт Адольфович рассыпался в любезностях и отпустил меня с порога, заботливо укрыв левую руку больного одеялом.
Если бы не свидетели, он выдернул бы свое позорище прямо здесь - безо всякой повязки.
На улице пели птички, светило солнышко, зеленели старые липы. В их тени, на скамеечке, дежурные урологи - один из корпуса, другой из "приемника" - резались в шахматы.
Меня распирало ощущение собственной значимости. Пьянила радость победы. Что-то похожее на любовь - к птичкам, к старичкам на скамеечке, к больным, прогуливающимся по территории в своих серых фланелевых робах - искало выхода.
Из приемника вышел Павел Ананьевич с моим дипломатом.
- Спасибо.
- Не за что.
- Как прошло?
- Нормально. Трубку вытащил с последним швом. Сейчас уже курить просит.
Мне самому вдруг ни с того, ни с сего захотелось курить.
Павел Ананьевич словно прочитал мои мысли. Он вытащил пачку "Беломора" и залихватски щелкнул костяшкой по днищу.
- Будешь?
- Рискну"
- "Явский".
Мне это ничего не говорило. Мы задымили.
- Крепкие,- с первой затяжки у меня закружилась голова.
- Нормальные. А у тебя чем закончилось?
Мы прошли в подъезд с полинялой табличкой "Кафедра анестезиологии и реаниматологии", мимо кабинета, который завотделением Юлик делил со старшей сестрой, вверх по лестнице, снова вниз, мимо аудитории - арены утренних аутодафе, налево мимо запертой двери собственно кафедры в заплесневелый подвал, где ординаторам выделили место под раздевалку.
На ходу расстегивая халат, я горделиво начал свое повествование. Павел Ананьевич поставил "дипломат" у моего шкафчика и, направляясь в самый темный и отдаленный аппендикс, попросил подождать две минуты.
Увлекаясь, я становлюсь похож на магнитофон - даже после десятиминутного перерыва продолжаю с того места, где "выключился". И обязательно "доиграю"до конца.
Переодевшись, мы вышли на волю, которая на этот раз показалась еще вольнее. Жестикулируя свободной рукой, я чуть не сбил прохожего.
За воротами больницы Павел Ананьевич остановился.
- Куда сейчас?
Я пожал плечами.
- Хочешь, съездим на "Полежаевскую"?
- А что там?
- Сидячий пивняк. Нормальная закуска, знакомый официант. Может быть, даже его смена.
Ехать домой не хотелось. И я согласился. В самом деле, куда еще податься двум взрослым мужчинам после трудов праведных? Не в Консерваторию же!
В кармане лежало десять рублей - надо было купить чего-нибудь из продуктов. Чего в это время в этой стране уже не продают. Я взял пачку "Космоса" (гулять, так гулять!) и первым запрыгнул в тренькающий трамвай.
Мимо ползли молочный, книжный, обувной магазин, кинотеатр, мост над железнодорожными путями, кладбище.
Мы делились впечатлениями о событиях дня, не обращая внимания на притихших старушек, которые взяли нас в кольцо.
От "1905 года" до "Полежаевской" доехали на метро.
За разговорами о теоретических аспектах обезболивания у больного с шоком мы не заметили, как стремительный троллейбус доставил нас к желаемой остановке. Припекало. Я снял свою куртейку. Во рту пересохло - последний раз это место контактировало с влагой в полдень, когда я между наркозами хватанул полстакана чая у девчонок в оперблоке 10-о корпуса. Только сейчас я понял, что по-настоящему хочу пива.
Пивной бар "Нижние Мневники" представлял собой вместительное серое здание на берегу Москвы-реки, больше похожее на школьный спортзал. По меньшей мере, снаружи.
- Работает, не работает? - произнес Павел Ананьевич голосом радушного хозяина, который предложил друзьям закончить попойку у себя дома и лишь у подъезда вспомнил о сварливой хозяйке.
"Спортзал" работал. С окрестных предприятий и учреждений сюда уже стекались "спортсмены", спешившие поправить подточенное за праздники здоровье.
Павел Ананьевич уверенно занял столик в углу за колонной, которая хотя бы частично защищала нас от вторжения "хрони" и прочих любителей выпить на халяву, и отправился на поиски официанта. Я избавился от лишнего третьего стула. И снова удача: вскоре нам приволокли четыре кружки пива и рыбное ассорти.
Вскоре литр янтарной умеренно разбавленной жидкости комфортно разместился в моем желудке.
Павел Ананьевич пользовался одной кружкой, подливая в нее все новые и новые порции. До ординатуры он несколько лет работал на Соколиной горе инфекционистом.
Провалившись первый раз на экзаменах в мединститут, в течение года кантовался в Лефортовском морге. Последнее обстоятельство сразу привлекло мое внимание - всегда тянуло к представителям экзотических профессий, пусть даже в прошлом. Я не услышал ужасов об оживающих мертвецах и не узнал сокровенных тайн МУРа. Самым ярким воспоминанием этого периода Паша назвал половой акт с немолодой пьяной санитаркой, имевший место в грузовом лифте в непосредственной близости от останков неизвестного бомжа.
Я не могу похвастать подобными приключениями - с отличием закончив среднюю школу и оставив детские мечты об Историко-архивном институте (по мнению родителей - непрактичная профессия), с первой попытки поступил во Второй Московский. Шагая по стопам предков. Укрепляя трудовые династии. Со второго курса санитарил - не то чтобы ради денег (тридцать рублей за полставки - бешеные деньги!), но и не по любви. Проходя обязательный этап в становлении медика, пару раз подержал крючки третьим ассистентом. Понял, что варикоз на ногах и растяжение мочевого пузыря - не для меня. На пятом курсе начал искать свое призвание. Невропатология казалась весьма перспективной, но такого же мнения придерживались многие из моих сокурсников, причем намного круче меня. Эндокринология навевала дрему. Я вспомнил про старую добрую анестезиологию, в преддверии которой терся уже три года.
В 4-й Градской, где размещался кружок при курсе анестезиологии и реаниматологии 2-о Меда, меня прикрепили к Илье Александровичу Омлину - импозантному брюнету с неизменной трубкой во рту (то есть трубки-то были разные - целая коллекция) и Брежневскими бровями. Омлин умел убедительно спорить и внимательно слушать. В дни Омлинских дежурств (чертовы пятницы) "реанимация" била рекорды по вызовам и поступлениям. Каждый труп (а в них недостатка не было) становился полигоном для молодых, жаждущих практики рук. Порой Илья Александрович ворчал: "Кто больному всю грудь истыкал? Как будто из автомата стреляли! Что я завтра Сторицу (завотделением патологической анатомии) скажу?
Когда Омлин доверял своим ученикам что-нибудь серьезное, каждый оказывался на своем месте. И делал то, что умел делать хорошо. Лучше расставить людей не смог бы и сам Господь Бог. На пятом курсе, когда я уехал на военные сборы, по 4-й Градской, "реанимации" и Омлину скучал больше, чем по отцу с матерью. Тогда и понял - мое! Илья Александрович посоветовал идти в ординатуру. Правда, в 4-ю Градскую брали только ординаторов со стажем...
Мы потягивали пиво и болтали за жизнь, легко перекрывая гомон зала. Солнечные лучи прорезали клубы дыма над нашими головами.
Когда они познакомились Ира училась на первом курсе, а Паша - на пятом. Брак не удался, и на его обломках осталась годовалая девочка Вика, о которой Леша говорить отказался ("Не сыпь мне соль на рану!").
Ситуация знакомая. С восьмого класса я встречался с одной милой девушкой. На шестом курсе родители купили мне двухкомнатную квартиру, где мы последние два года практиковали пробный брак. Девушке хотелось настоящего. Два раза мы подавали заявление, но на изменение своего гражданского состояния я так и не решился. Месяц назад расстались. Обошлось без детей - это плюс. Уже месяц, как половина моей кровати пустует - это минус.
За столом воцарилось скорбное молчание. Дабы поднять дух войск, Паша взял "чекушку" водки. Последние два литра мы "ершили".
Разговор беспорядочно перескакивал с одного на другое, пока, наконец, не прибился к теме, естественной для всех "оторвавшихся" мужиков, - сравнительному анализу сослуживиц. Ни я, ни мой собеседник пока не удосужились изучить данный вопрос изнутри, поэтому пришлось ограничиться обсуждением экстерьера. И поведения - как критерия готовности к развитию отношений.
Наши мнения в целом совпадали. Ирка из 10-о корчит из себя целочку, Катя из "неотложки" сохнет по травматологу Кобылянскому.
Со своими разобрались быстро. Наша больница славится опытными (не в этом смысле), квалифицированными, но, увы, немолодыми анестезистками.
И мы принялись за операционных сестер.
Хотя и здесь особо не разгуляешься. Тощая Олеся из того же 10-о почти официально числится альтернативной женой Миши Опошина. Ася из 2-го слишком кокетлива, чтобы пойти до конца. Наташа из "неотложки" прокурена до глубины души. Рося Рублева - высокая блондинка с ногами от подмышек - относится к отечественным ухажерам подчеркнуто презрительно и, судя по нездешним туалетам и запахам, источаемым ею (по меньшей мере, в начале смены), высокому и бескорыстному чувству предпочла "зеленые".
Когда мы, покачиваясь, покидали сей райский уголок, я понял, что встретил alter ego* - вялого и нерешительного психастеника, на трудовой ниве компенсирующего свою неудовлетворенность жизнью.
* Второе "я".
- ← предыдущая
- Три недели из жизни лепилы (Олег Мальский) - Глава 2
- Под крестом и полумесяцем (Часть 1)
- следующая →